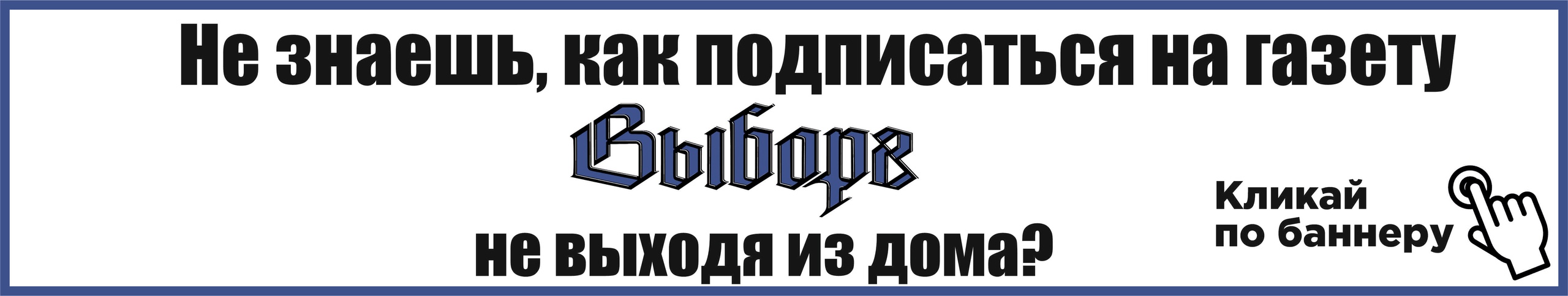В гостях у скульптора Александра Буслаева
«Мое увлечение индейцами началось еще в детстве – начитался книжек. Лес был рядом. Там ты в другом мире, где нет ни школы, ни родителей, ни милиции: ты разведчик, скаут... Я охотился на птиц, просто бродил. Однажды ушел в лес с ночевкой – за сказками. Но никаких сказок не нашел, замерз, как собака...»
Александр Буслаев – известный в городе скульптор, муж художницы Галины БУСЛАЕВОЙ. Конечно же, я с радостью откликнулась на предложение посмотреть их загородную мастерскую, где ждет своего часа отреставрированный «Маленький рыбак». Но первое, на что обращаешь внимание, еще не войдя в дом, – вигвам, построенный на участке. Вокруг него колышутся на ветру «ловцы снов», а внутри ждет сезона индейское каноэ. И вообще здесь не привычный глазу сад-огород, а настоящий музей скульптур под открытым небом, здесь воплощаются в жизнь творческие эксперименты…
«Внутри каждого из нас сидит индеец»
Александр, его брат и сестра родились на Дальнем Востоке: отец был военным. Поездили по стране, одно время жили в Германии. В 1962-м вернулись в Выборг, где после войны обосновалась семья отца. Александр начинал учиться в школе-четырехлетке в Возрождении, десять классов заканчивал уже в Житково. После школы никуда поступать не стал, пошел работать в житковский совхоз. И путь его от водителя молоковоза до скульптора был долог, очень долог...
– Я даже не представлял, что могу после школы поступить в какой-то художественный вуз. Мечтал быть писателем, мечтал попасть туда, где народы борются за свое освобождение, – удрать в Канаду, к индейцам. И я не один такой был в Житково. В совхозе работала тетя Рая – одна из первых женщин-водителей. В молодости она пришла в военкомат и потребовала, чтобы ее направили в Венгрию, где был тогда путч. А ее записали на автокурсы – мол, там пригодится. Пока она училась, путч закончился…
Мое увлечение меня спасло: деревенская жизнь засасывала своим идиотизмом, нельзя было выйти из дому, чтобы не напиться. А потом меня занесло в Литву, и там я увлекся живописью. Вернулся и снова сел за баранку. Но начал брать книги по искусству в библиотеке, изучал самостоятельно. Мог потратить всю зарплату на книгу из-за двух иллюстраций.
Лучше всего мне удавалась скульптура. Я начал лепить людей с натуры. Когда мать первый раз увидела мою работу, она заплакала.

1983 год. Второй слет индеанистов Пау-Вау в Семиозерье. "Наша индейская свадьба"
Я понимал, что только в большом городе могу научиться чему-то. И пришел в выборгскую художественную школу. Леонид Иванович БОНДАРИК разрешил мне учиться, но я продолжил и работать, сам себя обеспечивал.
Любовь с первой скульптуры
– В художественной школе я приобрел знакомства на всю жизнь. И с Галиной впервые встретился там – ей тогда было всего 14 лет. Но сначала я увидел ее миниатюрные скульптуры. В них все было – и динамика, и форма. Сразу было понятно, что это талантливый человек. Я был заводилой, участвовал в спектаклях. Помню, мы устроили какой-то вечер: в старой художке свет погашен, музыка. И вдруг смотрю – на чердачной лестнице сидит девочка, завернувшись в шаль. Это была Галина...
Через два года, когда мне было 27, я поступил в училище имени Серова (ныне Рериха), сразу на второй курс.
После учебы, года работы в художественной школе (и повторного знакомства с будущей женой) Буслаев долгое время работал у Арона Голомбика в комбинате благоустройства. В ведении этой организации был буквально весь Выборг, от городской скульптуры до кладбищ. Так что Александр там и реставрацией занимался (в частности, был первым, кто реставрировал статуи Торговли и Промышленности, памятник Горькому), и детские площадки оформлял, и надгробия вытесывал.
Оказывается, индеанистика – это целый пласт советской культуры. Люди, увлеченные ей, готовили себя к испытаниям, вольной жизни в лесу, а единомышленников находили, помещая объявления в газетах. По словам Буслаева, все они были под наблюдением КГБ.
– Я познакомился с индеанистами когда еще учился в училище. И это стало моей реабилитацией – узнать, что есть такие же «повернутые». Мы писали письма в Канаду и Америку, боролись за права индейцев. Мои единомышленники устраивали пикеты у посольств. Потом мне, правда, было не до этого, я прыгал, как лев: работа за копейки, халтура, семья...
Но в конце концов все-таки побывал на землях индейцев. У меня было трехмесячное американское путешествие!
…У американских индейцев сильная беговая школа. В 1990 году они проводили пробег Лондон-Москва. Границу России пересекали на Торфяновке. Я встречал их с делегацией московского комсомола, где работал мой товарищ. В Выборге после официальной части прошел концерт, мы раскурили Трубку мира – и гости отправились на Питер. Позже пришло приглашение для российских организаторов на пробег, посвященный 500-летию открытия Америки, и мой товарищ взял меня. Пробег проходил через всю Канаду, из Ванкувера в Монреаль, через все индейские территории. Из Нью-Йорка мы туда добирались на попутном транспорте. Я ехал дорогами экспедиции Льюса и Кларка до земель Черноногих, про которых читал мальчишкой. Пересек американский континент…
А потом в возрасте 47 лет Александр поступил в Академию художеств – и был всего на год моложе своего педагога.
Вопрос выживания
– У Голомбика я в основном делал памятники. Зимой не было работы, не было заказов. Однажды повезло в качестве подработки реставрировать дипломные скульптуры Дитриха из коллекции Выборгского замка. И когда я этим занимался, у меня замкнуло: как-то я не тому учился. Пойду-ка, думаю, в академию…
Это был 1999 год. Семь лет я ездил на электричке: день в академию, день в Комсомольское лесничество. Пока учился, лесничий Виктор Николаевич МАЛЮШИН давал мне работу. Выдержал я только потому, что активно занимался в прошлом боксом и карате. Галина тем временем растила детей, мне помогала учиться, иногда делала работы за меня.
Контора Комсомольского лесничества больше похожа на сказочную избу из фильма «Чародеи»: резьба по дереву, живопись, работы самого Виктора Малюшина. Окрестная территория оформлена скульптурами и панно работы Буслаевых.

"Скорбный ангел" - памятник разоренному Сорвальскому кладбищу
Многое Александр и Галина делают вместе и в одном ключе. Так, они реставрировали фигуры медведей на доме купца Маркелова (пр. Ленина, 6). Правда, Александр подчеркивает, что он – скульптор, резчик, а его жена – дизайнер, отсюда и разница стилей.
Удалось мне увидеть и легендарную статую Маленького рыбака: реставрация выполнена, но пока непонятно, кто заплатит за работу, захочет ли город взять скульптуру на баланс. Впрочем, это ситуация для художников привычная.
– Как уживаются в семье два мастера? – спрашиваю. – Ревность, соперничество?
– Нам не до этого: вопрос выживания. У творческих людей всегда тяжелые биографии, вы должны это знать…
Юлия ПОДСКРЕБАЕВА
Читать все статьи автора Юлия Подскребаева